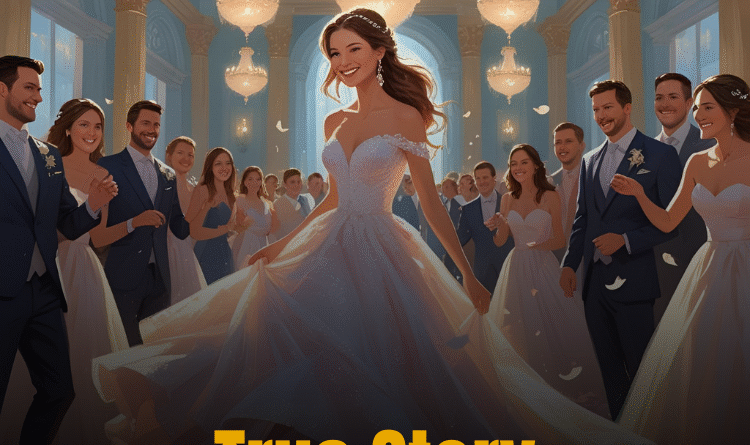Мы никуда не поедем. И точка.
— Мы никуда не поедем. И точка.
Юлия с такой силой ткнула пальцем в красный «сброс», будто хотела продавить его сквозь экран. Телефон скользнул по столешнице и глухо ударился о сахарницу. Звук вышел резким — словно печать. Не оглядываясь, она вернулась к плите, где на сковороде весело потрескивал ужин, и нарочно размешала лопаткой, вспоминая аромат лука и специй. Юлия была уверена: Роман слышал каждое слово.
В дверном проёме возник он — словно внёс в кухню ком тяжёлого воздуха: стало душно и липко. Роман молчал, скрестив руки, и сверлил её взглядом. Она чувствовала этот прожигающий взгляд спиной, но продолжала помешивать еду с демонстративным спокойствием. Первая поворачиваться она не собиралась.
— Почему ты так говоришь с моей мамой? — его голос был тих, но в нём звучала угроза сильнее любого крика.
Юлия медленно повернула голову, оставив лопатку над сковородой, и встретила его взгляд без малейших следов извинения.
— А как, по-твоему, с ней разговаривать, Рома? Может, нужно вышить её «ценные советы» крестиком и повесить над кроватью? Или отблагодарить за то, что пятый раз за неделю напоминает: у всех её приятельниц внуки уже в первом классе?
Она произнесла это буднично, почти ласково, чем вывела его из себя ещё сильнее. Роман ждал оправданий, слёз, хоть какой-то слабости — а получил холодный сарказм. Он шагнул ближе, заслоняя собой свет: тень легла на плиту, на её руки, на шипящую сковороду.
— Вопрос не в том, что она говорит, а как ты отвечаешь. Вела себя как последняя грубиянка. Напоминаю: она — моя мать.
— Именно. Она — твоя мать. А я — твоя жена. И это наша кухня, наш дом и наши планы на выходные. И когда твоя мать пытается решать, сколько денег мы должны откладывать и куда нам ехать в субботу, она лезет не в своё дело. И я ей об этом говорю. Прямо. Без оскорблений, заметь. Просто ставлю на место.
Роман усмехнулся. Усмешка получилась кривой и злой. Он подошёл почти вплотную, и теперь их разделяло не больше полуметра раскалённого кухонного воздуха.
— Ставишь на место? Ты? Её? Да ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Она жизнь прожила, она…
— Она прекрасно себя чувствует, Рома, не переживай. И прекрасно умеет манипулировать тобой, играя на твоём сыновнем долге. Но со мной этот номер не пройдёт. Я не собираюсь молча кивать и улыбаться, когда меня отчитывают, как нашкодившую школьницу.
Градус их разговора повышался с каждой секундой. Это был уже не спор, а словесный бокс, где каждый удар был нацелен в самое больное место. Роман чувствовал, что теряет почву под ногами. Логические доводы заканчивались, и внутри него закипала тёмная, иррациональная ярость. Он видел перед собой не жену, а врага, который посягнул на святое — на его мать, на устои его мира. И тогда он решил достать свой последний, самый убойный козырь.
— Ещё раз услышу, что ты с ней огрызаешься… — он сделал паузу, подбирая самые унизительные, самые сокрушительные слова, которые должны были раздавить её, втоптать в пол. Его голос упал на несколько тонов, стал вязким и неприятным. — Я привезу её сюда. Она тебе все волосы повыдирает, а я буду стоять и смотреть. Поняла? Просто стоять и смотреть на это побоище.
Он выплюнул это и отступил на шаг, словно любуясь произведённым эффектом. На его лице было написано торжество. Он был уверен, что сломал её. Что после такой угрозы она заткнётся, испугается, поймёт наконец своё место. Он ждал её реакции, предвкушая свою безоговорочную победу в этой маленькой домашней войне.
Роман замер, наслаждаясь эффектом. Он ждал. Ждал, что она сейчас съёжится, что её плечи опустятся, что на лице проступит испуг. Он ожидал увидеть сломленного человека, признавшего его правоту и его силу. Но ничего из этого не произошло. Юлия продолжала стоять к нему спиной, глядя на шипящую сковороду. На мгновение ему даже показалось, что она его не услышала.
Затем она выключила конфорку. Щелчок ручки прозвучал в наступившей тишине оглушительно громко, как взведённый курок. Она положила деревянную лопатку на столешницу рядом с плитой, сделав это с какой-то нечеловеческой аккуратностью. И только потом медленно, очень медленно обернулась.
На её лице не было ничего. Ни гнева, ни обиды, ни страха. Оно превратилось в гладкую, непроницаемую маску, с которой исчезли все знакомые ему черты его жены. Остались только глаза. Они смотрели на него в упор, и Роман почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он ожидал чего угодно, но не этого ледяного, оценивающего спокойствия.
Она усмехнулась. Это была не усмешка. Это было короткое, беззвучное движение уголков губ, лишённое всякого веселья. Она подошла к нему, сокращая дистанцию, которую он так демонстративно создал. Её шаги были мягкими и бесшумными, как у кошки, подбирающейся к зазевавшейся птице. Она остановилась так близко, что он мог почувствовать тепло, исходящее от её кожи. Она пахла жареным луком и чем-то ещё — чем-то хищным и незнакомым.
— Да я сама твою мать в бараний рог скручу, если она ещё хоть раз что-то пикнет в мою сторону!
Её голос был тихим, почти шёпотом, но каждое слово было отчеканено с предельной ясностью. В нём не было вибрации, не было эмоций. Это был голос человека, который не угрожает, а просто информирует о неизбежном. Роман моргнул, пытаясь осознать услышанное. Его заготовленный сценарий рушился на глазах.
Она наклонилась ещё ближе, и её глаза, тёмные и расширенные, заглянули ему прямо в душу. Взгляд был абсолютно безумным, но это было не то весёлое, истеричное безумие ссоры. Это было холодное, сосредоточенное сумасшествие хирурга, готовящегося к сложной и грязной операции.
— А потом, — добавила она ещё тише, её дыхание коснулось его щеки, — я возьму сковородку. Вон ту, чугунную. И проломлю башку тебе. За то, что стоял и смотрел.
Роман отшатнулся. Не рефлекторно, а всем телом, будто от него отхлынула невидимая волна жара. Его мозг отказывался обрабатывать информацию. Он смотрел на женщину перед собой и не узнавал её. Это была не Юля, с которой он прожил семь лет. Это был кто-то другой. Кто-то, кто только что буднично описал убийство двух человек, используя в качестве орудия обычную кухонную утварь.
Она выпрямилась, и на её лице снова появилось это страшное подобие улыбки.
— Ты хочешь проверить, Рома? Давай. Звони своей маме. Прямо сейчас. Приглашай её на бой.
Он смотрел на неё, на её спокойное лицо, на её абсолютно неподвижные руки, и понимал с ужасающей ясностью: она не шутит. В её глазах он увидел не женскую истерику, не обиду, не блеф. Он увидел холодную, беспощадную готовность исполнить обещанное. Он, который всего минуту назад чувствовал себя хозяином положения, победителем, теперь стоял посреди собственной кухни, и ему впервые в жизни стало по-настоящему страшно.
Роман не ответил. Он не нашёл в себе слов, которые могли бы противостоять этой ледяной, безумной декларации. Он просто смотрел на неё, как на незнакомого, опасного зверя, случайно забредшего в его квартиру. Затем он развернулся и молча вышел из кухни. Он не пошёл в гостиную, чтобы включить телевизор и сделать вид, что ничего не произошло. Он не ушёл в спальню. Он скрылся в маленьком кабинете, который раньше был кладовкой, и плотно прикрыл за собой дверь. Это было отступление. Безоговорочное.
Юлия осталась на кухне одна. Она постояла ещё несколько секунд, прислушиваясь к своим ощущениям. Внутри не было ни триумфа, ни злости. Только звенящая, холодная пустота. Она посмотрела на сковороду с безнадёжно испорченным ужином, взяла её и без малейшего сожаления вывалила всё содержимое в мусорное ведро. Потом методично вымыла её, вытерла насухо и повесила на место.
Так началась их новая жизнь. Открытая война с криками и обвинениями сменилась глухой, вязкой партизанщиной на общей территории. Они больше не разговаривали. Совсем. Они передвигались по квартире как два призрака, тщательно избегая пересекаться в узких коридорах, стараясь не смотреть друг на друга. Утром Роман вставал первым. Он готовил себе кофе, оставляя на столешнице россыпь кофейных крошек и липкое кольцо от кружки. Он демонстративно не мыл за собой посуду, бросая её в раковину, где она лежала молчаливым укором. Это была его маленькая месть, его способ показать, что он всё ещё здесь, что он не сломлен.
Юлия заходила на кухню через полчаса. Она молча убирала его кружку, вытирала стол, варила себе кофе. Она готовила завтрак только для себя. Идеально поджаренный тост, аккуратно выложенный на тарелку омлет. Она ела медленно, наслаждаясь каждым куском, сидя спиной к двери, зная, что он может в любой момент войти. Её спокойствие, её демонстративное самодостаточное существование было её оружием. Он пытался досадить ей беспорядком, а она отвечала ему стерильной, отстранённой чистотой, которая делала его мелкие пакости ещё более жалкими и заметными.
Вечерами Роман оккупировал гостиную. Он включал телевизор на полную громкость, переключая каналы с одного идиотского боевика на другой. Грохот взрывов и выстрелов заполнял квартиру, вытесняя тишину, которая была ему невыносима. Он разваливался на диване, закинув ноги в ботинках на журнальный столик, оставляя на стеклянной поверхности грязные разводы. Он ждал, что она выйдет и сделает ему замечание. Он жаждал конфликта, привычного и понятного, чтобы снова почувствовать себя в своей тарелке.
Но Юлия не выходила. Она сидела в спальне с книгой. Она не слышала телевизора. Она создала вокруг себя кокон из тишины, и его акустические атаки просто не достигали цели. Её молчание было громче его взрывов. Его демонстративное присутствие тонуло в её демонстративном отсутствии.
Так прошла неделя. Напряжение в доме можно было резать ножом. В субботу днём Роман решился на новый ход. Он сел на диван в гостиной и нарочито громко набрал номер матери. Юлия в этот момент была на кухне и прекрасно всё слышала.
— Да, мам, привет! — его голос был неестественно бодрым и жизнерадостным. — Как ты? У нас всё отлично, просто замечательно! Да, конечно, помню… Нет-нет, что ты, работаем оба, крутимся… Как-нибудь обязательно заедем, конечно! Ты главное не переживай. Люблю тебя, да. Целую!
Это был спектакль. Дешёвый, топорно скроенный, предназначенный для одного-единственного зрителя. Он показывал ей, что альянс с матерью нерушим, что он всё ещё «мамин сын», что её угрозы его не сломили. Он закончил разговор и с вызовом посмотрел в сторону кухни, ожидая реакции.
Юлия вышла из кухни. В её руках был мусат и большой поварской нож. Она подошла к обеденному столу, который стоял в той же гостиной, и села напротив него. Она не посмотрела на Романа. Её взгляд был полностью сосредоточен на инструментах в её руках. И в оглушительной тишине, нарушаемой лишь бормотанием телевизора, раздался звук.
Ш-ш-ших… Ш-ш-ших…
Она с ровным, выверенным нажимом, точила нож. Движение было плавным, почти медитативным. Лезвие скользило по стали, издавая сухой, режущий слух скрежет. Ш-ш-ших… Ш-ш-ших… Этот звук проникал под кожу, заставляя волосы на затылке шевелиться. Он был гораздо страшнее любых криков. В нём не было эмоций. В нём была подготовка. Роман смотрел на её сосредоточенное лицо, на отблеск света на идеально заточенной стали и чувствовал, как по его спине снова бежит ледяная струйка пота. Она не сказала ни слова. Она просто напомнила ему, чем закончится эта игра, если он решится сделать следующий ход.
Роман не выдержал. Неделя ледяной тишины, прерываемой лишь скрежетом точильного камня, сделала с его нервами то, чего не смогли сделать крики и скандалы. Он чувствовал себя униженным, загнанным в угол в собственном доме. Его угроза, которая должна была стать сокрушительным ударом, превратилась в его личный позор. В его голове созрел план — отчаянный, глупый и единственно возможный, как ему казалось. Он должен был довести дело до конца, чтобы вернуть себе лицо.
Во вторник вечером он пришёл с работы раньше обычного. Юлия была в ванной. Он прошёл на кухню, налил себе стакан воды и, глядя на чугунную сковороду, висящую на своём крюке, набрал номер матери. Его голос был тихим, но твёрдым. Он говорил коротко, отрывисто, давая чёткие инструкции. Он не просил, он требовал. Он знал, что она приедет.
Через сорок минут в дверь позвонили. Коротко и настойчиво. Юлия вышла из ванной с полотенцем на голове, в домашнем халате. Она вопросительно посмотрела на мужа. Роман стоял посреди коридора, бледный, с плотно сжатыми губами. Он ничего не сказал, просто пошёл и открыл дверь.
На пороге стояла Галина Ивановна. Она была не одна. За ней, как тень, маячил её младший сын, брат Романа, крепкий мужчина лет двадцати пяти. Галина Ивановна вошла в квартиру не как гость. Она вошла как ревизор, как карательная экспедиция. Её взгляд впился в Юлию, оценивая её с головы до ног, от мокрого полотенца до домашних тапочек.
— Ну, здравствуй, невестушка, — её голос был полон яда, завёрнутого в ледяное спокойствие. — Слышала я, ты тут моего сына жизни учишь? Руки распускать собираешься?
Роман встал чуть поодаль, у стены, скрестив руки на груди. Он занял позицию зрителя. Его брат остался у открытой двери, молчаливый и массивный, отрезая путь к отступлению. Спектакль начался.
Юлия не ответила. Она медленно, очень медленно сняла с головы полотенце, открывая влажные, тёмные волосы. Она не смотрела на свекровь. Её взгляд был прикован к Роману. Она смотрела на него так, будто никого другого в комнате не было. В её взгляде не было ненависти. Там было что-то хуже. Там было подтверждение. «А, так вот как ты решил», — читалось в её глазах.
— Что молчишь? Язык проглотила? — не унималась Галина Ивановна, делая шаг вперёд. — Думала, мы позволим тебе тут командовать? В нашем роду бабы своё место знали!
Она сделала ещё шаг и резко протянула руку, чтобы схватить Юлию за плечо, встряхнуть, унизить.
И в этот момент всё изменилось.
Юлия не отступила. Она шагнула навстречу. Её движение было стремительным, как бросок змеи. Она перехватила протянутую руку свекрови за запястье, её пальцы впились в сухую кожу с неожиданной силой. Второй рукой она схватила Галину Ивановну за плечо и резко дёрнула на себя и в сторону, разворачивая. Потерявшая равновесие женщина, вскрикнув от боли и удивления, полетела в сторону кухни. Юлия не отпустила её. Она втолкнула её в кухонный проём и с силой ударила лицом о столешницу, рядом с раковиной. Раздался глухой, влажный звук и короткий, сдавленный стон. Юлия прижала её голову к холодной поверхности, вывернув руку за спину под неестественным углом.
— Я же сказала, — прошипела она прямо в ухо обмякшей свекрови, — что скручу в бараний рог.
Брат Романа дёрнулся было с места, но замер, увидев выражение лица Юлии, когда она на долю секунды обернулась. Роман так и стоял у стены, его лицо из бледного стало белым как полотно. Он смотрел на свою мать, распластанную на столешнице, и на свою жену, которая только что с пугающей эффективностью исполнила первую часть своего обещания. Его мир рухнул. Это был не бой, на который он рассчитывал. Это была казнь.
Юлия отпустила свекровь. Галина Ивановна сползла по кухонному гарнитуру на пол, держась за лицо и тихо скуля от боли и унижения.
А Юлия выпрямилась. Она не удостоила взглядом ни поверженную противницу, ни её остолбеневшего сына у порога. Она повернулась к Роману. Её лицо было абсолютно спокойным. Она сделала шаг в его сторону. Потом ещё один. Её взгляд был прикован к его глазам.
Затем она медленно, не отрывая от него взгляда, повернула голову в сторону стены, где на крюке висела тяжёлая чугунная сковорода. Роман проследил за её взглядом. И всё понял. Он увидел в её глазах холодную, беспощадную готовность исполнить обещанное до конца. Он отшатнулся, упираясь спиной в стену. Его губы беззвучно зашевелились, но он не смог произнести ни слова. Он, который привёл свою семью, чтобы посмотреть на побоище, теперь понял, что главный бой ещё даже не начался. И он в нём — следующая жертва.
Пока Юля ещё не взяла сковороду, он быстро помог своей матери подняться на ноги, стояла она плохо, после произошедшего, передал её своему брату, схватил ключи в коридоре с тумбочки и поспешил вслед за своей семьёй, понимая, что больше он в эту квартиру не вернётся, потому что, иначе, его приговор будет приведён в действие. Лучше просто на расстоянии развестись и забыть об этой женщине, которая по факту, просто отстаивала себя и своё мнение и не давала подмять себя под чужую волю…
Роман мчал по ночному шоссе наугад, будто стремился оставить все произошедшее позади, стереть из памяти последние двадцать минут. Галина Ивановна тихо постанывала на заднем сиденье, прижимая к щеке пакет с замороженной курицей — другого льда в квартире сына не нашлось. Младший Костя, крепко стиснув ремень безопасности, молчал. В салоне пахло холодным потом и дешёвым освежителем.
— В больницу? — наконец спросил Костя.
Роман мотнул головой:
— Доедем до тебя. Там решим.
Доедем до тебя — значило: «Мне негде ночевать». Костя понял.
1
Юлия закрыла дверь на все запоры, медленно, один за другим. В прихожей воцарилась плотная тишина, нарушаемая лишь её дыханием и слабым гудением вытяжки на кухне. Она прошла в ванную, повернула кран на полную — излившийся поток горячей воды забил раковину паром. Юлия подставила руки, будто смывая невидимую грязь.
Ощущение не проходило: в груди будто отлито тяжёлое свинцовое ядро. Не страх, не жалость, а что-то вязкое, расплавленное. Она посмотрела в зеркало: глаза чуть воспалённые, пряди прилипли к вискам — образ не жертвы, не воительницы — просто женщины, которой до предела надоело.
Телефон замигал уведомлениями: «48 пропущенных вызовов: мама Ромы, Костя, Роман». Она нажала «Без звука» и положила аппарат в ящик.
2
На следующее утро Юлия отправилась в ЗАГС, подала заявление о разводе. Никаких сцен. Дежурный юрист объяснил: «Если супруг не согласен, через месяц — в суд». Она кивнула.
Из ЗАГСа — к участковому. Короткий рапорт: незаконное проникновение, угроза насилием, попытка телесных повреждений. Участковый, крупный седой майор с пятью нашивками, внимательно слушал, кивал, задавал уточняющие вопросы. Записал показания.
— Хотите привлечь их по 115-й? — спросил он. — Лёгкий вред здоровью матери мужа подтверждён?
Юлия пожала плечами:
— Их право обращаться к врачу. Моё — зафиксировать факт вторжения.
Майор хмыкнул:
— Правильно. Возьму объяснения, вынесу определение: либо «отсутствует состав», либо административка. Но раз заявление есть, мужик теперь под прицелом. Если снова сунутся — звоните сразу.
Она вышла из отделения и впервые за последние недели почувствовала, как спина разгибается. Ощущение хрупкое, как тонкий лёд весной, но оно было.
3
Роман ночевал у брата два дня: спал плохо, просыпался в холодном поту. Галина Ивановна наутро настояла поехать в травмпункт: подглазничная гематома, ссадины, лёгкое сотрясение. Собранные справки легли в папку.
— Мы её засудим! — шипела мать. — Это уголовщина! Бить пожилого человека!
Роман слушал вполуха. В его голове крутилась другая лента: слова Юлии про сковороду, её пустые, — в то же время бездонные — глаза.
4
Через неделю пришло заказное письмо: уведомление о расторжении брака. Девяносто дней на примирение, затем — суд. Роман, глядя на гербовую печать, будто увидел собственную подпись под приговором.
— Не подпишу! — бросил он брату.
— Придёт в суде, подпишут за тебя, — пожал плечами Костя.
Галина Ивановна собрала совет семьи: две тётки, троюродная сестра, соседка-подруга. Вердикт был единогласный — «надо бороться». Но борьбы Роман уже не хотел. Он избегал дома, шатался после смены по улицам, заезжал в зал, поднимал штангу, пока не сводило мышцы. Ночами смотрел в потолок и слышал, как стук точилки об металл размыкает тишину.
5
Юлия тем временем перестраивала быт. Заказала новые замки, поменяла шторы, переставила мебель — важно было стереть «их» квартиру и создать «свою». В выходные начала волонтёрить в кризисном центре для женщин. Сначала мыла окна и стены, потом помогала психологу на группах поддержки. Там она впервые проговорила вслух:
— …Я, наверное, тоже виновата. Довела.
Пожилая консультантка, слушая, мягко покачала головой:
— Виноваты? Перед кем? Перед тем, кто годами играл вашими нервами? Или перед собой, что не ушли раньше? Вы никому ничего не должны, кроме себя.
Слова легли тяжёлым камнем, но не давили — скорее напоминали: «Дыши».
6
Май наступил угрюмый и холодный. Роман наконец позвонил:
— Давай без суда… Пойдём к медиаторам, подпишем соглашение.
Юлия молчала несколько секунд:
— Мне нечего обсуждать.
— Давай разделим мирно: мебель — тебе, машина — мне. Я ипотеку закрою.
— Забирай машину. Почту пересылать?
Он ожидал слёз, крика, торга. Услышал спокойствие. Сел на холодную лавку у подъезда и вдруг заплакал — впервые с пятого класса.
7
Суд длился пятнадцать минут. Роман сказал судье:
— Против развода не возражаю. Имущественных претензий нет.
Юлия расписалась, забрала решение и вышла в коридор. Роман догнал:
— Прости.
Она посмотрела на бывшего мужа. Перед ней стоял растерянный мужчина: плечи опали, губы дрожали. Ни злости, ни бравурного позёрства. Только усталость.
— Рома, — тихо ответила она, — прости себя сам. Это важнее.
8
Прошло полгода. Юлия сняла деньги с совместного счёта, закрыла ипотеку досрочно и выставила квартиру на продажу. Вместо неё купила маленькую двухкомнатную в доме напротив парка. Светлые стены, книжные полки до потолка, запах кофе по утрам.
В кризисном центре она стала штатным координатором. Вела тренинги: «Ненасильственное общение», «Границы и личная безопасность». На первом занятии каждая участница писала на листе две фразы: «Что я запрещаю себе?» и «Что я себе позволяю?» Затем — ножницы, ритуал разрыва запретов, громкий хруст бумаги. Всегда находилась та, кто плакал.
Однажды поздним вечером, уже закрыв офис, Юлия вышла с мусорным пакетом и столкнулась у калитки с Романом. Он держал в руках белую коробку.
— Тебе это… — протянул он неуверенно. — Тут письма. Мама нашла, когда собирала вещи дедушки. Они писали бабушке на фронт. Я подумал, тебе будет важно…
Юлия взяла коробку, поблагодарила. Уличный фонарь освещал его лицо — худое, с проседью на висках.
— Как мама? — спросила она, прежде чем повернуться.
— Нормально. Восстановилась. Сняли очередную квартиру рядом с Костей.
— Хорошо. Береги её.
Он кивнул, не зная, что ещё сказать.
Когда Юлия закрыла за собой дверь офиса, слёзы обожгли горло. Она села на ступеньки и распечатала коробку: старомодные конверты с выцветшими чернилами, пожёлтые карточки полевой почты — десятки строк о том, как человек ждёт дома тепло и мирную жизнь. «Лида, я держусь только мыслью о тебе». И рядом — ещё одна надпись чужим карандашом: «Вернись живым».
В тот момент Юлия поняла, что прощение бывает не ради прошлого, а ради будущего — своего и тех, кто рядом.
9
Через год в центре начали строить арт-мастерскую для подростков. Юлию назначили руководителем проекта: искать гранты, писать отчёты, нанимать кураторов. В первой группе было пятнадцать ребят из неблагополучных семей. Среди волонтёров — новый педагог из художественной школы, высокий рыжебородый Илья. Он показывал подросткам, как из пластиковых бутылок создавать мозаики, и смеялся так заразительно, что даже самые угрюмые парни улыбались.
Однажды после занятия он задержался помочь вынести холсты. Юлия наклонилась поднять тяжелую коробку, рука соскользнула, кисти рассыпались по полу. Илья шагнул вперёд, удержал коробку одной рукой, другой — осторожно дотронулся до её локтя. Несколько секунд они стояли рядом, слыша лишь дыхание друг друга и гул вентиляции.
— Всё хорошо? — спросил он.
— Всё хорошо, — ответила она, впервые за долгое время чувствуя, что слова эти — правда.
10
Роман появился ещё раз — подписать окончательные банковские бумаги. На пороге новой квартиры Юлии он задержался. Смотрел на яркий ковёр, на деревянную доску с буковками «Дом там, где тебя ждут», на горшок с фикусом в уголке.
— Ты счастлива?
Юлия улыбнулась:
— Я учусь.
Он кивнул:
— Спасибо, что не сломалась тогда. Может, и мне это дало шанс… Я поступил на курсы психологической помощи. Работаю теперь с подростками-школярами по линии ПДН.
Юлия протянула руку — крепкое рукопожатие двух людей, которые однажды воевали, а теперь завершили войну.
Когда дверь за Романом закрылась, Юлия прислонилась к косяку и закрыла глаза. Не было больше тяжести. Не было страха. Была тихая уверенность в себе — как звонкий морозец ранним майским утром.
Она вернулась к столу, где лежал проект нового тренинга: «Сила слова и язык согласия». Открыла ноутбук, набрала:
Цель: научить говорить «нет» без крика и «да» без страха.
Поставила точку, сделала глоток холодного зелёного чая и улыбнулась: жизнь только начиналась.