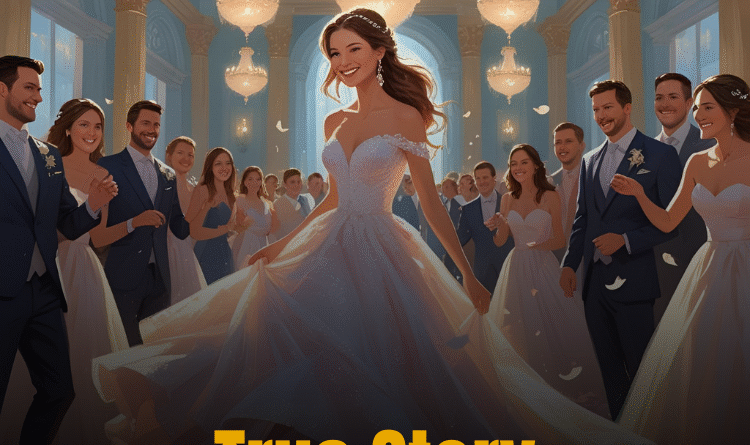Марьяна с детства испытывала непреодолимое отвращение к алкоголю
Марьяна с детства испытывала непреодолимое отвращение к алкоголю. Для неё это было не просто дурное пристрастие — это было нечто омерзительное до дрожи. Каждый раз, когда она видела пьяного человека, её лицо непроизвольно кривилось, а в груди поднималась волна гнева, с которым она не знала, как справиться. И она точно знала, откуда это шло: с малых лет ей приходилось наблюдать, как мать медленно разрушает себя с помощью спиртного. Ночь за ночью приносила новые унижения, и Марьяна боялась даже засыпать, не представляя, с чем ей придётся столкнуться утром.
Самые тяжёлые воспоминания тянулись из детства — безрадостного, холодного, пропахшего дешёвой выпивкой. Мать часто приходила поздно, еле волоча ноги, иногда не доходила до квартиры и оставалась лежать прямо у подъезда, как брошенный мешок. Марьяне тогда было всего семь лет, но чувство стыда уже прочно поселилось в её душе. Соседи смотрели на неё с жалостью, а школьники откровенно насмехались, шепча: «Вон идёт дочка алкашки!»
И в школе это не прекращалось — одноклассники с издёвкой передразнивали походку её матери, выкрикивали гадости, хихикали за спиной. Девочка часто плакала ночами, уткнувшись в подушку, но слёзы не приносили облегчения. Со временем она научилась прятать чувства под маской безразличия, но внутри всё кипело: злость, бессилие, постоянное ожидание беды.
Особенно тяжело стало, когда мать совсем перестала заботиться о доме. В углах копилась пыль, на полу валялись осколки, по столам — грязные тарелки с объедками. Марьяна старалась навести порядок, но у неё просто не хватало сил. Ведь она была всего лишь ребёнком, мечтавшим не о швабре и мусорных мешках, а о куклах, друзьях и обычных школьных буднях.
Вечерами она пряталась в своей комнате, слушая, как за стеной мать либо тихо стонет, либо плачет. Иногда раздавался резкий звон стекла — очередной стакан или бутылка. А бывало, раздавался глухой звук падения — мать снова рухнула на пол. В такие моменты Марьяна сидела, затаив дыхание, боясь даже пошевелиться, пока в доме вновь не наступала мёртвая тишина.
Однажды, вернувшись из школы, она обнаружила дом перевёрнутым вверх дном. Мебель была опрокинута, посуда разбита, а мать лежала посреди этого хаоса, хрипло дыша в лужу собственной рвоты. Воздух был настолько пропитан перегаром, что у Марьяны потемнело в глазах. Она хотела убежать, но вместо этого схватила тряпку и принялась оттирать пол. Слёзы жгли щёки, но она не останавливалась. В тот день она дала себе клятву: её собственный ребёнок никогда не увидит мать в таком состоянии.
Прошли годы. Марьяна вышла замуж, родила дочь. Теперь у неё была семья, которую она оберегала всей душой. Но воспоминания не отпускали. Каждый пьяный прохожий заставлял сердце сжиматься от старой боли. Она помнила страх, стыд, отчаяние.
Теперь она делала всё, чтобы её Алиса росла в любви и безопасности. Чтобы она никогда не знала, каково это — бояться собственной матери. Марьяна не могла изменить прошлое, но будущее было в её руках.
А мать?
Валентина знала, что Марьяна её презирает. Они почти не разговаривали. Дочь отвечала односложно, голос её был холоден, как лёд. Валентина боялась встретиться с ней взглядом — там ждало лишь осуждение. И она понимала, что заслужила это. Каждую минуту страданий, каждую слезу.
Иногда ей снились иные жизни — те, где она не прикасалась к бутылке. Где Марьяна смеялась, а не плакала, где дом пах не перегаром, а пирогами. Но сны лишь усиливали горечь.
Сейчас было уже поздно. Дочь вырвалась из этого ада и построила свою жизнь — без неё. Валентина сама выбрала эту дорогу и теперь пожинала плоды. Лишь иногда, сквозь алкогольный туман, проскальзывала надежда: а вдруг когда-нибудь она сможет её простить?
Утро начиналось одинаково: раскалывающаяся голова, тошнота, провалы в памяти. Осколки вчерашнего: рюмка, вторая, третья… Потом — пустота. ВаленИ тогда Валентина поняла, что единственное, что остаётся, — это умереть в одиночестве, забытая даже собственной дочерью.
Валентина очнулась от кошмарного сна на жестком продавленном диване в своей комнате, где давно не было уюта. С потолка облупившейся краской свисали паутинки, в углу скопился мусор, который она обещала себе выбросить ещё неделю назад. Во рту пересохло, а в голове пульсировала тупая, навязчивая боль. Она привычно потянулась к бутылке, но остановилась.
В последнее время мысль о смерти приходила всё чаще. Нет, не с истеричной обречённостью, а с какой-то холодной, почти логичной ясностью. Дочь не звонит, внучку она никогда не видела, соседи сторонятся. Единственное, что у неё оставалось, — воспоминания. Но они жгли сильнее любого алкоголя.
В ту злополучную зиму, когда Марьяна в последний раз приходила в её квартиру, она стояла на пороге, сжав губы в тонкую линию, и смотрела на мать таким взглядом, что Валентине стало стыдно до тошноты. Тогда она попыталась пошутить, начать разговор, даже извинилась. Но всё, что услышала в ответ, было сухое:
— Я пришла отдать тебе справки. Мне больше нечего здесь делать.
С тех пор тишина. Ни звонка, ни короткого сообщения. Валентина, несмотря на унижение, пыталась написать сама — поздравления с праздниками, просьбы увидеть внучку, одно простое слово: «Прости». Но её сообщения оставались непрочитанными. В лучшем случае — однострочные ответы: «Занята» или «Не надо».
Однажды она встала среди ночи и, шатаясь, подошла к старому комоду, где хранились фотографии. Среди пожелтевших снимков она нашла ту самую — где Марьяна ещё совсем девочка, с двумя косичками, прижавшаяся к ней. Они обе смеются, сидя на старом диване. Улыбки тогда были настоящими. Валентина приложила снимок к груди и тихо разрыдалась.
Марьяна сидела в уютной детской, читая «Колобка» Алисе перед сном. Девочка уже зевала, но не отпускала мамину руку. Её волосы пахли клубничным шампунем, и эта простая близость заставляла сердце Марьяны наполняться теплом. Всё, что она делает, — ради этой крошечной девочки. Ради её счастья.
Но когда дочка уснула, Марьяна вышла в коридор, села на край дивана и уставилась в темноту. Мысли вновь вернулись к матери. К той грязи, которую она не могла забыть. К стыду, пропитавшему её детство. К бутылкам, битому стеклу, вонючей одежде, от которой воротило. Простить? Нет. Невозможно.
И всё же… что-то не давало покоя. Она вспомнила слова мужа, сказанные вскользь:
— Может, стоит с ней поговорить? Не ради неё, ради себя.
Она тогда вспыхнула, устроила скандал, но сейчас… Сейчас в этих словах был смысл.
Прошло уже больше пяти лет с тех пор, как она порвала с матерью. Валентина, если ещё жива, уже не та. Старуха, брошенная всеми. Да, она сама всё испортила, сама разрушила семью, но… Это всё равно её мать.
Марьяна открыла ноутбук, набрала адрес сайта, где можно было заказать волонтёрскую помощь для одиноких пожилых людей. Сомневалась. Сердце колотилось. Наконец она набрала адрес и телефон матери. Сверху добавила: «Если жива. Проверьте. Просто сообщите, что у неё есть дочь. Не говорите, кто я. Мне нужно понять…»
Через неделю ей позвонили.
— Добрый день, это благотворительный фонд «Забота». Мы выезжали по адресу, указанному вами. Валентина Сергеевна жива, но в тяжёлом состоянии. Алкоголь, истощение, одиночество… Она почти не встаёт. Но, несмотря на всё, она просила передать: «Я не прошу прощения, я его не заслужила. Просто скажи — я люблю её».
Эти слова прорвались сквозь ледяную броню. Марьяна закрыла глаза. Впервые за годы она не чувствовала гнева. Только усталость. Боль. И жалость. Она вспомнила, как в девять лет на Новый год мама, будучи трезвой, пекла ей блины и делала бумажные снежинки. Как однажды привела в школу и сидела на задней парте, гордо кивая, когда учительница хвалила Марьяну за стих. Да, эти воспоминания были редкими, затертыми, но они были.
— Адрес, — сказала она волонтёру. — Я приеду.
Когда Марьяна вошла в квартиру матери, её чуть не вырвало. Запах был омерзительный: смесь старости, лекарств и давно не убранного жилья. Валентина лежала на кровати под старым покрывалом, глаза вперёд, остекленевшие.
— Мам…
Женщина вздрогнула. Не поверила. Только спустя несколько секунд её губы начали дрожать.
— Это… ты?
Марьяна подошла, села рядом. Слёзы, против воли, хлынули по щекам. Валентина тоже плакала, слабо сжимая её руку.
— Я… я не думала, что ты когда-нибудь…
— Тсс… Не говори. Не надо. Просто лежи.
Они молчали долго. Потом Марьяна поднялась, открыла окна, включила воду, начала убирать. Пол, посуда, бельё… как когда-то, когда ей было семь. Только теперь всё по-другому.
Прошли недели. Марьяна приезжала по выходным, приносила продукты, приводила Алису. Девочка сначала боялась, пряталась за маму. Потом привыкла. Стала приносить рисунки, играть на ковре, заглядывать в глаза бабушке.
Валентина почти не говорила, но когда они уходили, долго смотрела вслед. И каждый раз, когда Марьяна выходила из квартиры, сердце сжималось — так же, как когда-то, только теперь от других чувств. Не от стыда, а от того, что она не смогла простить раньше. Что упустила столько лет.
Однажды, собираясь домой, она подошла к матери, наклонилась и прошептала:
— Спасибо, что тогда не сдалась. Я всё равно стала человеком. Ты дала мне жизнь. А это — уже немало.
И Валентина, дрожащими пальцами, сжала её руку. Без слов. Без оправданий. Без мольбы.
Впервые за долгое время между ними снова была тишина — но теперь добрая, родная. Как ночь перед Рождеством. Когда ещё не всё потеряно.
Но умирать просто так — тоже не получалось.
Валентина лежала на продавленном диване, закутавшись в старое покрывало, и смотрела в потолок. Он был в разводах, желтоватый от времени и сигаретного дыма, который, кажется, навечно въелся в стены. Похмелье сегодня было особенно злым. Казалось, что каждый вдох режет лёгкие, голова пульсировала болью, а желудок сжимался, будто в кулаке.
На тумбочке рядом стояла недопитая бутылка. Валентина потянулась к ней, но рука дрогнула. Впервые за долгое время ей стало по-настоящему страшно: не от одиночества, не от боли — от того, что всё вот так и закончится. В нищете, в забытьи, без прощения. Без дочери.
Она с трудом села, взяла бутылку, открыла крышку и… вылила всё в раковину. Жидкость с плеском исчезла в сливе, оставив после себя приторный запах. Валентина отшатнулась, села на пол и заплакала. Не от жалости к себе, не от слабости — от стыда. Ей было сорок девять, и у неё не осталось ничего, кроме обрывков памяти и полуразрушенной квартиры.
На третий день трезвости Валентина впервые за долгое время вышла из дома при свете дня. В аптеке она купила валерьянку и активированный уголь, в продуктовом — овсянку, молоко и чай. Женщина за прилавком взглянула на неё с удивлением — впервые без запаха спиртного. Валентина не ответила, только кивнула.
Дома она попыталась убраться. Пыль стояла столбом, пол был липким, из холодильника несло тухлятиной. Она вытащила все продукты и с чувством выбросила их в пакет. Потом мыла, скребла, протирала. На всё ушёл целый день. Когда она наконец рухнула на диван, руки дрожали, а ног не чувствовалось. Но впервые за годы было ощущение, что она сделала что-то не напрасно.
Прошла неделя. Потом ещё одна.
С каждым днём было всё труднее не свернуть — руки тянулись к бутылке на автомате, мозг шептал: «Один глоток, просто, чтобы снять напряжение». Но Валентина вспоминала лицо Марьяны — холодное, отрешённое, и удерживалась.
Она не звонила. Не смела. За столько лет разве имела она право?
Зато начала писать письма. Настоящие, на бумаге, ручкой. Одно за другим.
«Марьяна. Прости, что пишу. Знаю, ты не хочешь меня слышать. Я просто хочу сказать: я бросила пить. Не знаю, получится ли у меня продержаться долго, но я пытаюсь. Потому что больше не могу так жить. Прости меня, доченька…»
«Я убралась в доме. Сегодня сама испекла пирог. Получился кривой, но пахнет не хуже тех, что пекла бабушка… Помнишь бабушку Ларису? Ты у неё пряталась, когда я была не в себе. Мне стыдно за всё. За каждый твой испуг, за каждый мой крик…»
«Если вдруг ты когда-нибудь решишь прийти — знай, я всегда буду ждать. Даже если ты не придёшь — я всё равно буду ждать. Потому что ты — моя дочь. Единственный свет во тьме, которую я сама себе устроила…»
Она писала каждый вечер, складывала письма в коробку. На почту не несла. Боялась, что дочка разорвет их, даже не читая.
Тем временем у Марьяны жизнь шла своим чередом. Алиса подросла, пошла в первый класс. Забот стало больше, но вместе с тем появлялось что-то похожее на счастье — простое, домашнее.
Иногда, когда Алиса засыпала, Марьяна садилась у окна и думала о матери. Была ли она ещё жива? Или окончательно спилась? Подсознание подбрасывало воспоминания: мать в свадебном платье, смеющаяся, с румянцем на щеках. Было ведь время, когда она была красивой, доброй, нежной. До водки. До ямы.
Однажды, разбирая старые ящики, Марьяна нашла письмо. Очень старое, с пожелтевшими краями. Написанное рукой Валентины, ещё в те времена, когда та лежала в больнице после передозировки снотворного. В письме не было просьб. Лишь сожаление и страх.
И вот в этот вечер, впервые за годы, Марьяна взяла телефон и открыла список контактов. Пролистала вниз. Там всё ещё значился номер, подписанный просто: «Мама». Она нажала вызов… и тут же сбросила.
Но что-то внутри сдвинулось.
А у Валентины в это время начались срывы.
Один, другой. После двух месяцев трезвости она не выдержала — сорвалась. Три дня пила, не просыхая. Потом рыдала, снова мыла квартиру, писала прощения. Но всё чаще вставала утром трезвой. Уже не из страха, а из желания. Для себя.
Она пошла в церковь, поговорила с батюшкой. Тот не стал её упрекать, только сказал:
— Пока вы живы, у вас есть шанс всё изменить.
Валентина записалась в группу поддержки. Там были такие же, как она — с потухшими глазами, но с желанием жить. Сначала она просто слушала, потом стала говорить. О Марьяне, о боли, о стыде. Её слушали, не перебивая. И это лечило.
Весной, в пасмурный апрельский день, дверь в квартиру Валентины тихо приоткрылась.
На пороге стояла Марьяна. Не с цветами, не с упрёками. Просто — стояла.
— Ты сама открыла? — спросила она, увидев, что замок цел, а дверь не выломана.
Валентина стояла растерянная. Она хотела броситься к дочери, обнять, но не посмела. Только кивнула.
— Я пришла не мириться, — строго сказала Марьяна. — Мне нужно понять. Просто понять, зачем ты тогда всё это сделала.
Они сидели на кухне. На столе — чайник, две чашки, овсяное печенье. Валентина рассказала всё. Без оправданий. Только правда. Марьяна слушала, не перебивая.
Когда она встала, собираясь уходить, мать спросила:
— Ты придёшь ещё?
— Не знаю, — честно ответила Марьяна. — Но теперь я хотя бы вижу, что ты борешься.
Встречи стали редкими, но регулярными. Без нежностей, без особой близости. Но между ними больше не было той стены, как раньше.
Алиса однажды спросила:
— Мама, а кто эта тётя?
Марьяна замерла, потом ответила:
— Это моя мама.
— А почему ты раньше мне о ней не говорила?
Марьяна не знала, что ответить. Но в ту ночь она снова долго не могла уснуть. А утром впервые позвонила матери сама.
— Приезжай в воскресенье. Алиса хочет с тобой познакомиться.
И в это воскресенье Валентина пришла. В простом платье, с заплетающимися руками, с пакетом конфет и тем самым кривым пирогом. Она волновалась, как перед судом. Но Алиса смотрела на неё не глазами обвинителя, а ребёнка. Чисто, открыто.
И в этом взгляде Валентина вдруг увидела надежду. Надежду на то, что уважение — это не то, что можно потребовать. Его можно только заслужить. День за днём. С любовью. С покаянием. С тишиной вместо криков.
И, может быть, она ещё успеет.
Прошла неделя. Валентина не пила. Не потому что появилась сила воли — её не было. Не потому что внезапно прозрела — она всё ещё с трудом разбиралась, где заканчивается сон и начинается явь. Просто она физически не могла больше терпеть тот рвущий изнутри стыд. После разговора с Марьяной что-то сломалось. Впервые за много лет — действительно сломалось.
Она лежала на диване, накрывшись старым пледом, слушала, как за стеной гремит мир. Летели машины, смеялись дети, гавкали собаки. Жизнь шла своим чередом, будто её самой не существовало. Валентина потянулась за телефоном. Пальцы дрожали, словно её трясло лихорадкой. Вчера она пыталась позвонить Марьяне — та не ответила. Ни вечером, ни утром. Только сухое «прочитано» в мессенджере.
Она пролистала переписку, полную равнодушных фраз:
— Привет.
— Как ты?
— Я не прошу денег, просто поговори со мной.
— Прости за всё.
Ни одного ответа. Марьяна не злилась — это было бы легче. Она просто больше не видела в ней человека. И именно это пугало Валентину больше всего. Не обида, не ненависть — а пустота. Будто она умерла для собственной дочери.
На кухне зазвонил домофон. Валентина вздрогнула, резко села, чуть не потеряв равновесие. Кто это мог быть? Она осторожно подошла, нажала кнопку:
— Да?
— Это я. Анна Петровна, с первого. У вас мусор опять птицы растащили, выходите, пожалуйста, приберитесь.
Валентина закрыла глаза, прижавшись лбом к стене. Голос соседки был вежливым, но внутри слышался тот самый оттенок — снисходительный, приправленный презрением. Все давно привыкли видеть в ней «ту самую алкоголичку с третьего». Валентина надела куртку, вышла во двор, собрала пакеты, смяла их, сложила в мусорный бак. Птицы, действительно, расклевали остатки. Мимо проходил мальчик, Марьянин ровесник. Он посмотрел и тут же отвёл глаза. И Валентине вдруг стало невыносимо больно: когда-то и её дочь вот так стыдливо отворачивалась от неё на улице.
Вечером она снова взяла телефон.
— Привет, Марьянушка. Я не знаю, читаешь ли ты всё это. Не знаю, зачем пишу. Может, чтоб самой не сойти с ума. Я не пью. Уже неделю. Это, наверное, не достижение, но для меня — почти подвиг. Я хожу, убираю квартиру. Купила новый ковёр, выбросила старый диван. Хочу, чтобы ты знала — я пытаюсь. Пусть и поздно. Но я пытаюсь. Если сможешь — приезжай. Или просто напиши. Я не прошу прощения. Я его не заслужила. Просто… не исчезай. Пожалуйста. Я не выдержу.
Она не отправила. Просто сидела, глядя на экран. В конце концов, удалила сообщение.
Марьяна сидела в кафе, глядя на пар, поднимающийся над чашкой чая. Алиса играла с пластилиновыми фигурками. Девочка смеялась, беззаботно болтая ногами, обмахивала игрушечным веером резиновую лягушку.
— Мам, а бабушка к нам приедет?
Марьяна вздрогнула, словно её кольнули иглой. Она не ожидала этого вопроса.
— Какая бабушка, Алиса?
— Ну та, которая мне медвежонка подарила. Она тогда ещё шла шатко, как будто укачало. И грустная была.
Марьяна вспомнила. Это было два года назад. Валентина вдруг появилась у подъезда — с помятым пакетом, в котором лежала старая мягкая игрушка. Она не зашла, не заговорила — просто передала подарок, глядя в глаза Алисе, и ушла. Тогда Марьяна долго стояла у окна, наблюдая, как мать, запнувшись о ступеньку, скрылась за углом.
— Мам?
— Нет, Алиса. Она не приедет.
— Почему?
— Потому что иногда взрослые делают такие вещи, которые потом уже нельзя исправить.
Алиса нахмурилась. Потом неожиданно сказала:
— А я бы хотела, чтобы у меня была бабушка. У Вари их две, у Кости три.
Марьяна сжала губы. Она сама мечтала когда-то о бабушке — доброй, пахнущей пирогами, с морщинками и мягким голосом. А вместо этого… она стыдилась каждого праздника в школе, когда просили нарисовать семью.
Позднее вечером она открыла телефон и, не читая, прокрутила вверх переписку с матерью. Пропущенные звонки, сообщения — беспорядочные, растерянные. И одно новое, оставленное пару дней назад. Короткое.
— Я не пью. Правда.
Всё. Без давления, без слёз, без жалости к себе. Просто факт. И вдруг что-то кольнуло внутри — еле ощутимо. Не прощение. Даже не жалость. Просто вопрос: а вдруг?
Валентина проснулась от стука в дверь. Не сразу поняла, где находится. Комната была тёмной, тишина плотной завесой висела над ней. Сердце колотилось.
— Кто там? — хрипло.
— Это я, Марьяна.
Валентина замерла. Нет, это сон. Этого не может быть.
Она вскочила, чуть не упав, распахнула дверь.
На пороге стояла дочь. В пальто, с равнодушным лицом, но настоящая. Живая.
— Ты правда не пьёшь? — спросила Марьяна, не заходя.
— Уже двадцать дней, — прошептала Валентина. — Я всё вылила. Всё выбросила. Я даже окно мыла. Ты хочешь зайти?
— Нет, — покачала головой Марьяна. — Я не готова. Просто хотела посмотреть — ты ли это ещё. Или уже совсем…
Она не договорила. Валентина не знала, что сказать. Молчала, боясь вспугнуть.
— Если и дальше не будешь пить… может быть, через какое-то время… я привезу Алису. На час. Без обещаний. Но только если ты — честно.
Валентина кивнула. Слёзы текли по щекам, но она не вытирала их. Она стояла, как ребёнок, получивший разрешение жить.
Марьяна повернулась и пошла прочь. Без обниманий, без прощаний. Но в этот раз она не отворачивалась. Просто шла.
А Валентина смотрела ей вслед — и впервые за много лет чувствовала, как в груди что-то медленно оттаивает. Нечто очень маленькое и хрупкое. Надежда.